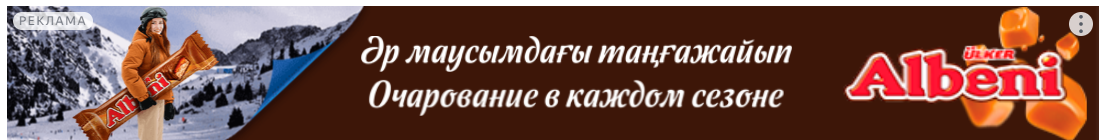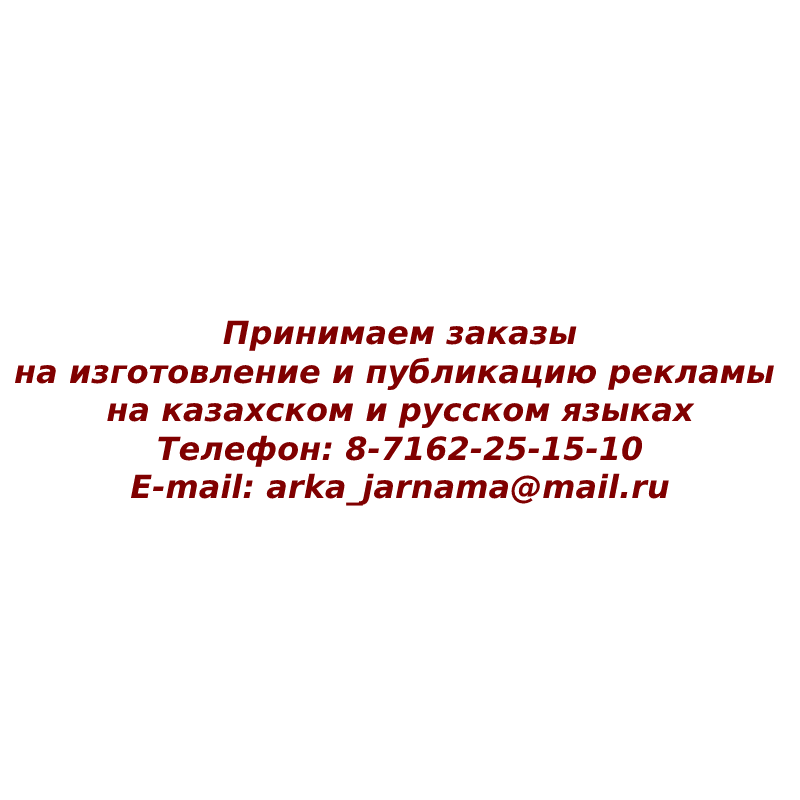90-е годы люди вспоминают совершенно по-разному. Для кого-то это было время тяжелых перемен. Для кого-то — счастливого детства и молодости, полное надежд. TengriMIX представляет авторский взгляд на 90-е от казахстанской писательницы Виктории Котэ.
Карамелька
И будет здесь еще много лет, а может, еще кто-то посмеет его носить, но не она. Мне захотелось почувствовать ее объятья. Вспомнить ее теплую рыхлую спину и руки. И я надела этот плащ и засунула руку в карман. Там был фантик от шоколадной конфеты «Буревестник» и карамелька «Взлетная». И я точно знаю, что она лежала там для меня.

*****
Когда я училась в начальной школе, мама уже работала в котельной. Тогда Казахстан стал независимым и у нас появились тенге вместо рублей. Но зарплату вдруг перестали платить деньгами. Давали какую-то мелочь монетами и продукты в счет оклада. Хлеб, молоко и кефир. Редко — колбасу. И это был праздник!
Я носила домой хлеб и кефир с маминой работы. Шла по большой трубе, которая подавала горячую воду в город. Идти по трубе, перепрыгивая стекловату, — в этом было что-то героическое. Горячий хлеб был вкусным, кефир тоже. По дороге я садилась на трубу, смотрела на степь и ела свой груз. До дома доживала только половина поклажи.
Как-то дали мешок сухого молока, и все стали варить «сникерс» — варево из сахара, какао, арахиса и сухого молока. Было вкусно, но главное — сладко. Иногда давали муку в мешках и сахар. Это было хорошо. Не надо было идти на базар и покупать все там за живые деньги.
Надо было как-то жить дальше, и мы как-то жили. Пенсию у бабы тоже задерживали. Продукты перечислением спасали, но не полностью. Баба заняла денег и пошла торговать жвачками и шоколадками. Love is, Albeni и Luna приносили живые деньги. А мне хотелось сладкого, и я иногда воровала у бабы из сумки ее товар. Как-то она раскрыла меня и отругала. Она говорила, говорила, а в голосе было слышно бессилие, боль и большая усталость от такой жизни. Мне стало стыдно, острый ком вонзился в горло, но заплакать так, чтобы стало легче, я не смогла.
Потом ей предложили заработать «посерьезнее» — продавать водку и спирт под прикрытием детских сладостей. Это было выгоднее, и баба согласилась, хоть это было и незаконно. А иногда даже опасно — бабок грабили, били и отнимали товар.
Как-то подошли двое и спросили — водка есть? Она сказала «есть», но ее голос был совсем другим. Я ему не поверила. Это был чужой голос. Писклявый и испуганный. Двое сказали, что им нужно бутылок шесть, и она снова сказала «есть». Но с собой столько не было. Мы быстро собрали ее прилавок-коробку и сели к ним в большой старый автобус. В автобусе она сжалась и взяла меня за руку. Всю дорогу у нее было застывшее выражение лица. Только глаза тревожно следили за двоими и дорогой. Она боялась, но я этого не поняла. Мне было интересно все — пустой автобус, поездка, странные люди.
На первой остановке один из двоих вышел и зашел с сумкой. В сумке было несколько палок сырокопченой колбасы. Мы получили первую часть гонорара бартером. Колбаса пахла изумительно. Это была отличная колбаса. Мы давно не видели такой. Потом поехали дальше. Страх на ее лице не растаял до тех пор, пока она не отдала им бутылки и не получила деньги.
Баба расслабилась и оживилась только к вечеру. Я услышала, как она рассказывала маме на кухне, что боялась от начала и до конца сделки — что увезут за город и убьют, нападут, что ударят по голове и отнимут товар, деньги, или что они из милиции и ее посадят в тюрьму.
И тогда я поняла, почему дрожал ее голос, почему она в автобусе была так сжата и собрана и почему так напряженно суетились ее глаза. И мне тоже стало страшно. За нее и за то, что она делала. А еще стало горько и обидно за нашу уязвимость и беззащитность. Слов я тогда таких не знала, но очень хорошо ощутила в этот момент. Словно мы все трое, Валентина, Галина и Виктория, стояли голые, на холодном северном ветру и некому было нас укрыть от холода и нужды.
Но потом баба покаялась об этом на исповеди и навсегда завязала.
Дорога
Если дорога уходит за горизонт, можно смотреть на нее бесконечно. Каждую смену в котельной я выходила и залипала на голую степь с асфальтовой лентой. Долго стоять было нельзя, особенно если старший оператор — не мама. Могут пожаловаться, что бездельничаешь на смене. Интриги в кочегарке — покруче «Санты Барбары». Люди готовы были спать с начальством, доносить и предавать ради премии в три тысячи тенге. А на мое место с окладом в десятку дышало в спину минимум трое. Они ждали, что я уйду в декрет, уеду или просто растворюсь, чтобы надеть мои столетние резиновые сапоги, драную телогрейку и впиться руками в шланг с кипятком. И никому не отдавать, потому что придут другие голодные.
Там тоже было иногда приятно. Когда под ногами не путалось начальство и можно было сделать что-то для себя. Золотое время без камер видеонаблюдения. Нужно было отрегулировать уровень воды в деаэраторе, добиться подходящей жесткости воды и отправиться в горячую деревянную парилку. А там — СПА. Скрабы из овсяных хлопьев и медовые масочки. И покой. Расстелешь полотенце, возляжешь на горячие доски и чувствуешь, как каждая из мышц спины сладко тянется и расслабляется. Даже пелось там, прямо в парной. Голосишь и любуешься звуком, который скачет по дощечкам.
Иногда я убегала смотреть на дорогу. Днем было видно, как по ней пролетают машины и тащатся грузовики. Ночью они все превращались в огоньки: желтые — значит кто-то приехал. Красные — значит кто-то уезжает из этой дыры в большую жизнь.
«Когда-нибудь и я так же уеду», — думала я, — «так же уеду».
Шляпа
Недавно я выпила вина и расслабилась. Надела шляпу, как у Боярского, и танцевала перед зеркалом под Фила Коллинза. Думать о движениях было не нужно, музыка сама подсказывала, как двигаться руке или ноге, импульс плавно тек из плеча в руку, из локтя в кисть и обратно.
Мое отражение в зеркале было якорем, а комната вокруг меня плыла и менялась. Сначала было кафе на берегу океана в Индии, потом бар на Самуи, и вдруг я оказалась в своей комнате, в Джетыгаре (сейчас Житикара, Костанайская область. — Прим.ред.).
Мне здесь 14, я смотрю в зеркало, приклеенное к книжной полке. Эту полку сделал для меня корейский полу-отчим. Я вижу свои темно-карие глаза, и они похожи на две черные дыры. Два колодца, через которые я вынырнула.
Я танцую и чувствую, что там все также: позади меня кровать, еще шаг и я ударюсь о нее ногой. На столе разбросаны учебники, а в шкафу — мое любимое мамино платье из голубого велюра.
За окном — зима. За окном — снег и луна. А еще парк и речка, которая давно замерзла. И фонарь, вокруг которого, как мотыльки, вьются крупные снежинки. В зале стоит бежевый телефон с диском. Его провода прикручены скотчем к линии и часто отходят. Из-за этого я пропускаю важные звонки и расстраиваюсь. И баба жива, и диван тот же, старый, а кресла из моего младенчества, в красный горох, с ободранными кошкой подлокотниками. Пол скрипучий деревянный, с отколупанной краской в некоторых местах. Мне очень не нравилось его мыть.
А потом ко мне подошел муж, обнял и все. Снова я в Алматы, мне 36, и послезавтра опять начнется суетная жизнь. Но почему же мне кажется, что я была там по-настоящему?
Весна
В детстве у нас был черно-белый ламповый телевизор «Весна». Мама и бабушка привезли его с собой, когда переехали из России. Мне нравилось его смотреть. Мне хватало черного и белого на экране. Мое воображение дорисовывало остальные нужные оттенки.

Я подрастала, а телевизор портился. Стал часто пропадать звук в самом интересном месте фильма или начинала прыгать картинка. Меня это бесило. Мне казалось, я упускаю что-то важное. Где-то бурлит яркая, настоящая жизнь, а я тут стою перед молчаливым телекомом с дергающимся экраном и ничего не могу сделать.
Горько было до слез. Я подходила и отчаянно колотила по нему кулаком. Так лампы вставали на свои места. Кино и блеск чей-то жизни возвращались. Жизнь налаживалась. Но телевизор подыхал. И однажды сдох совсем — что-то щелкнуло внутри, и экран сузился до маленькой точки.
Это сгорел кинескоп. Денег на новый не было, и дома стало тихо. Выносить, как что-то важное и интересное происходит без меня, было невозможно. Я перешагнула стыд и пошла по соседям. «Новую жертву» смотрели у Танаковых. «Горца» у тети Иры. «Санту Барбару» иногда перехватывала у Таньки.
Каждый вечер я попрошайничала телек у кого-то. Если не получалось — нервничала. А однажды нам с мамой подарили телевизор. Он был еще старше покойной «Весны», в два раза больше размером, весил килограмм 15. Еще у него был встроенный проигрыватель. Но он не работал. Каналы переключались клавишами цвета слоновой кости.
Мы везли его на моих старых санках через весь город, бережно завернув как ребенка в одеяло. Так раньше мама возила меня в садик — на тех же санках, укутав по самые глаза. Снег хрустел, блестел, а мы тащили телек по темным улицам. Мы были очень счастливы и улыбались. Затащили на четвертый этаж, отогрели и включили.
Это было счастье. Он прожил у нас долго и показал много. А потом сгорела звуковая лампа, и дома снова стало тихо. Тогда это тихо бесило. А сейчас тихо — это роскошь. И хоть я живу в том городе, который видела в детстве по телевизору, он меня все равно бесит. Бесит, потому что шумит и не дает мне покоя.
Бесит поток машин, который не заканчивается даже ночью. Бесят шумные бешеные автобусы. Скрипят тормозами на перекрестках так, что вздрагиваешь. Бесит, что мне приходится кричать, чтобы мои дети услышали меня на улице.
Дети тоже бесят. У меня нет сил отвечать на сто вопросов в минуту. Язык не хочет больше работать, голова кружится, и я рявкаю на них. Как раздраженная издерганная шавка. Бесит, что эта взрослая жизнь оказалась не такой яркой и беззаботной, как я представляла тогда. И бесит, что я, кажется, ничего, ничего не могу с этим поделать.
Отрывки из повести «Прощание» Виктории Котэ, литературный наставник, писатель Евгений Бабушкин
А какие воспоминания вызывают 90-е годы у вас?